И. Е. Репин “Из воспоминаний и статей о Л. Н. Толстом”

I
Свои воспоминания о Л. Н. Толстом Репин напечатал еще при жизни великого писателя — в 1908 г. [И. Репин. Из моих общений с Л. Н. Толстым. — “Русское слово” 1908, №№ 23 и 26, от 27 и 31 января.] В основу этого мемуарного очерка легли впечатления Репина от всех его многочисленных встреч с Толстым, но тем не менее сообщенный Репиным материал оказался не очень значительным: “В этой краткой заметке, — писал он, — я попытаюсь сообщить только несколько эпизодов внешнего бытового характера его жизни, близким свидетелем которого мне посчастливилось быть”. Можно было ожидать, что в дальнейшем Репин вернется к данной теме. Но этого не случилось, и в обоих изданиях книги Репина “Далекое близкое”, вышедших в 1937 — 1944 гг., воспоминания художника о Л. Н. Толстом ограничиваются лишь перепечаткой мемуарного очерка 1908 года.
Между тем, еще за двадцать лет до опубликования этих воспоминаний, под свежим впечатлением первого посещения им Ясной Поляны 9 — 16 августа 1887 г., — Репин подробно описал этот знаменательный эпизод своей жизни. Рукопись этих воспоминаний вскоре после их написания, в сентябре 1888 г., Репин подарил И. Д. Гальперину-Каминскому — переводчику русской художественной литературы, постоянно проживавшему за границей. В архиве И. Д. Гальперина-Каминского рукопись Репина пролежала долгие годы. И лишь в послереволюционный период она была опубликована в зарубежной печати. [“Современные записки” (Париж) 1921, № 3, 27 февраля.]
Публикуемые воспоминания ценны многими подробностями, которые позже исчезли из памяти Репина. Так, в частности, они интересны тем, что проливают свет на историю создания “Крейцеровой сонаты”. Репин рассказывает: “Лев Николаевич очень любит музыку... Случалось, что после какой-нибудь впечатлительной сонаты Л. Н. рассказывал нам целую драму, которая рисовалась ему во время исполнения пьесы”. Совершенно несомненно, что здесь идет речь о названной повести.
О замысле этой повести мы имеем также мемуарные свидетельства П. И. Бирюкова и П. А. Сергеенко. П. И. Бирюков рассказывает: “Как-то весной, в Москве, в Хамовническом доме у Л. Н — ча собралось большое общество и светских, и литературно-аристократических гостей. Из выдающихся людей были Репин и Андреев-Бурлак. На этом вечере присутствовал также скрипач Лассото, учитель музыки детей Л. Н — ча. Знаток и любитель музыки, Сергей Львович Толстой сыграл вместе со скрипачом Лассото “Крейцерову сонату”. Л. Н. давно знал и любил эту вещь; ее игрывали еще во время его молодости на музыкальных вечерах в Москве. В этот вечер “Крейцерова соната” произвела на Л. Н. особенно сильное впечатление. И он перевел это впечатление с музыкального на литературный язык и, обратившись к Репину и Андрееву-Бурлаку, сказал: “Давайте изобразим “Крейцерову сонату” доступными нам способами искусства. Я напишу рассказ, Андреев-Бурлак прочтет его перед публикой, а вы напишете на эту тему картину, которая будет стоять на сцене, пока Андреев-Бурлак будет читать мою повесть”. [П. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого. М., 1923, т. II, стр. 106 — 107.]
Почти то же говорит и П. А. Сергеенко: “Крейцерова соната” возникла при следующих обстоятельствах. У Толстых гостили в Ясной Поляне художник И. Репин, актер Андреев-Бурлак, смешивший Льва Николаевича своими рассказами до боли живота, и приехавшая из-за границы г-жа Г[ельбиг], которая однажды вечером сыграла “сонату Крейцера” с такою яркою выразительностью, что произвела на всех и на Льва Николаевича в особенности глубокое впечатление, под влиянием которого он сказал Репину: “Давайте и мы напишем “Крейцерову сонату”, Вы — кистью, я — пером, а Василий Николаевич [Андреев-Бурлак] будет читать ее на сцене, где будет стоять и ваша картина”. [П. Сергеенко. Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой. М., 1898, стр. 72 — 73.]
Воспоминания Репина позволяют определенно отнести этот эпизод ко времени его первого посещения Ясной Поляны. Упоминание Бирюкова и Сергеенко о том, что при этом разговоре присутствовал также артист Андреев-Бурлак, ошибочно, так как Андреев-Бурлак был в Ясной Поляне 20 июня того же года. [См. “Дневники С. А. Толстой, 1860 — 1891”. М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1923, стр. 142.] Но посещение осталось в памяти Толстого, и он, конечно, мог в разговоре с Репиным вспомнить Андреева-Бурлака и высказать пожелание, чтобы тот прочел с эстрады его будущую повесть. [Что действительно в бытность Репина в Ясной Поляне шел разговор об иллюстрировании им будущей повести Толстого, это подтверждается письмом Толстого к Репину от января — февраля 1888 г. В письме этом, которое было опубликовано самим Репиным в журнале “Жизнь для всех” в 1912 г., Толстой якобы сообщает: “Я набросал уже давно тот рассказ о Петре великом солдатки, о котором вам говорил и о котором помню ваше обещание”. Так гласит печатный текст, но я полагаю, что это место письма Толстого было неверно разобрано, и что следует читать не “рассказ о Петре великом солдатки”, а “рассказ о Бетховенской сонате”. Предполагать это можно по следующим основаниям:
а) Толстой никогда не называл царя Петра “Петр великий”, а называл “Петр Первый”;
б) никаких набросков “рассказа о Петре великом солдатки” в архиве Толстого не сохранилось, как нет и упоминаний об этом рассказе в его переписке;
в) Репин в ответном письме от 3 февраля ничего не упоминает о “рассказе о Петре великом солдатки”, хотя Толстой и напоминает ему об его обещании касательно некоторого известного ему рассказа;
г) в то же время Репин в том же письме сообщает: “И Бетховенская соната меня очень занимает: если бы я знал содержание Вашей трагедии на эту тему, то исподволь обдумывал бы”. Это, очевидно, прямой ответ на какое-то место письма Толстого;
д) “Крейцерова соната” действительно была “набросана” Толстым в сентябре — октябре 1887 г., т. е. за четыре месяца до его письма к Репину;
е) из-за трудности почерка Толстого при расшифровке письма, написанное им “Бетхо” могли принять за “Петре”, “венской” — за “великом”, “сонате” — за “солдатки”.]
Нельзя не обратить внимания на то, что у Репина сравнительно очень немного записано разговоров Толстого. Несомненно, что за неделю, проведенную им в Ясной Поляне, у Репина было немало бесед с Толстым по вопросам искусства, литературы, морали, общественной жизни, но в его воспоминаниях они не запечатлены. Объясняется это тем, что, как с сожалением признавал сам Репин в письме к Толстому от 3 февраля 1888 г., уехав из Ясной Поляны, он не мог “воспроизвести тех удивительных мыслей”, которые ему пришлось там услышать. Единственный большой разговор Толстого, приводимый Репиным, это — разговор о нищенстве и его значении в крестьянском быту.
Репин дает сильную и меткую характеристику воздействия слов Толстого на слушателей. Конечно, Репин писал это на основании собственного опыта.
Интересны сообщаемые Репиным подробности его работы над картиной “Толстой на пашне”, а также описание самой пахоты Толстым поля яснополянской вдовы Анисьи Копыловой и его настроения после этой работы. Репин вспоминает, как горячо и убежденно говорил Толстой о полезности и радостности физического труда, и приводит его изречение, что “из поставленного самим самовара чай несравненно вкуснее”.
Вместе с Толстым Репин заходил к яснополянскому крестьянину грамотею, которого они застали за чтением биографии художника Александра Иванова. Это был, очевидно, молочный брат Толстого, Петр Осипович Зябрев, неоднократно упоминаемый в дневниках Льва Николаевича. Он и впоследствии водил к нему в избу своих знакомых и гостей. [См. запись в дневнике Толстого от 21 апреля 1903 г. (Л. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 33, 1937, стр. 133).]
С теплым чувством рассказывает Репин о тех знакомых Толстого, которых он видел в Ясной Поляне. Он приводит восторженный отзыв П. О. Зябрева о девушке, которая в то лето жила в деревне Ясной Поляне и помогала крестьянам в работе и в уходе за детьми. Фамилия этой девушки нам неизвестна. Упоминает Репин и о медике, студенте Московского университета, пришедшем в Ясную Поляну пешком и намеревавшемся пешком же вернуться обратно в Москву. Это был Владимир Васильевич Рахманов, впоследствии живший в толстовских общинах и работавший с Толстым на голоде в 1892 г. О его посещении Ясной Поляны в августе 1887 г. сообщает С. А. Толстая в своем дневнике под 19 августа 1887 г. [См. “Дневники С. А. Толстой”, стр. 146.]
Таковы немногочисленные, но все-таки существенные новые данные о Толстом и его окружении, сообщаемые Репиным в публикуемых воспоминаниях. Немало дополнительных ценных штрихов эти воспоминания прибавляют и к облику Репина-мемуариста.
Н. Гусев
О ГРАФЕ ЛЬВЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ТОЛСТОМ
(Мои личные впечатления и воспоминания)
1
Летом в Ясной Поляне Лев Николаевич встает в 10 — 10 1/2 час. Умывшись и надев всегда одну и ту же черную блузу, он пьет кофе, чай, в обществе жены. Пьет вдоволь, не торопясь. Если хорошая погода, чай сервируется на открытом воздухе, в саду, между акациями, под большой, развесистой липой; если дождик — графиня ждет Л. Н. в гостиной.
Окончив чай и закусив парой яиц всмятку, Л. Н. идет вниз, в свой небольшой кабинет, заставленный весь очень тесно книжными шкапами, простой работы, — и погружается там в умственную работу.
Занимается он усидчиво, серьезно, до 3-х и более часов; после идет на полевую работу, если она есть. Полевые работы не всегда бывают, и работает граф только в пользу бедных, слабых, вдов и сирот. Если полевой работы не предвидится, Л. Н. берет корзиночку и идет в лес собирать грибы, это дает ему часы уединения с природой и самим собою.
Случается, что это время от 3 до 6 часов он отдает какому-нибудь заезжему гостю. Знакомые и совсем незнакомые люди, иногда из очень далеких краев России и других стран, приезжают к нему нарочно, по самым разнообразным вопросам жизни.
В его душевной беседе и отзывчивом сердце эти ищущие люди всегда находят много утешения, разъяснений и глубокоразумных истин.
К 6-ти час. Л. Н. возвращается к обеду в свою многочисленную семью, состоящую из десяти детей всех возрастов, начиная от 26-летнего старшего сына, кончая двухлетним младенцем. Надо прибавить к этому гостей, товарищей сыновей, кузин, подруг дочерей, учителей, гувернанток и заехавших иногда приятелей графа и графини. Большой белый зал старого графского дома, увешанный фамильными портретами предков, весь пересекается огромным столом и наполняется во время обеда веселым, громким разговором всех возрастов и всевозможных интересов.
После обеда Л. Н. перебирает и перечитывает привезенный только что из Тулы большой ворох писем, журналов, брошюр и разных корреспонденций со всего света. В этом очень утомительном деле Льву Н — чу помогает его старшая дочь, Татьяна, она же часто пишет и ответы по инструкции отца.
Вечером, часов в 9, вся семья, за исключением малолетних, которые идут спать, — собравшись опять в зал к вечернему чаю и фруктам — устраивает самые разнообразные развлечения. Или это бывает литературное чтение — читает, большею частью, сам Л. Н., читает он хорошо: просто, выразительно и необыкновенно завладевает всеобщим вниманием. Или пение — аккомпанирует чаще всего сам Лев Н — ч, с большим тактом, помогая певице. Или устраивается музыка; молодой скрипач из Московской консерватории, преподаватель музыки детям Л. Н. — на скрипке, а старший сын графа — на рояле, исполняют какую-нибудь музыкальную пьесу, большею частью Бетховена. Играют всегда с большим энтузиазмом, какой встречается только у любителей, и часто очень удачно.
Сам Л. Н. очень любит музыку, хорошо ее знает, сопровождает игру очень вескими замечаниями и нередко бывает растроган до слез патетическими пассажами музыки. Случалось, что после какой-нибудь впечатлительной сонаты Л. Н. рассказывал нам целую драму, которая рисовалась ему во время исполнения пьесы.
Молодежь, дети и племянницы Л. Н., составляют из себя часто целый цыганский хор, с гитарами. Они очень близко подражают захватывающей страстности цыган, переливам, замираниям и пронзительным взвизгиваниям цыганок, хватающим за душу. Этим особенно отличается вторая дочь графа Мария. Вегетарианка, строгая последовательница жизненной теории отца, неутомимая работница в поле с крестьянами; стройная, высокая, худенькая блондинка, с чисто-русским типом лица.
После 12 часов семья расходится спать.
2
Лев Николаевич необыкновенно искренно и горячо увлекается всяким занятием. Я был свидетелем его неутомимой, трудной работы в поле. От 1 часу дня до самых сумерек, 8 1/2 час. вечера, он неустанно проходил взад и вперед по участку вдовы, направляя соху за лошадью и таща другую, привязанную к его ременному поясу, лошадь с бороной; он запахивал, “разделывал” поле. Пот валил с него градом, толстая, посконная рубаха, одеваемая им на полевые работы, была мокра насквозь, а он мерно продолжал. Плоскость была не ровная: надо было то всходить на гору, то спускать соху под гору, с осторожностью, чтобы не подрезать задние ноги лошади. Внизу, в овраге, лежала бутылка воды с белым вином, завернутая в пальто графа от солнца; иногда он, весь мокрый, отпивал наскоро из этой бутылки, прямо с горлышка, и спешил на работу.
Часто во время подъема на гору, побледневшее лицо его, с прилипшими волосами к мокрому лбу, вискам и щекам выражало крайнее напряжение и усталость, а он, поровнявшись со мной, каждый раз бросал ко мне свой приветливый, веселый взгляд и шутливое словцо. Я попросил его, наконец, дать мне соху попробовать попахать. Он сообщил мне необходимые правила, и я пошел. Сначала мне показалось легко; но, от неумелости держать соху на равномерной глубине в земле, и в то же время следить за правильностью борозды и за шагом лошади — я начал спутывать линию борозды, соха то врезывалась очень глубоко, то скользила поверх, и я, собрав всю свою выдержку, едва дотянул второй подъем на гору и возвратил соху хозяину, вспотев и устав до невероятности от непривычного труда; правда, и день был жаркий, 9-го августа.
Я вспомнил про свой карманный альбомчик и зарисовал графа пашущим, в двух позах, ловя моменты пока он проходил близко мимо меня.
Поздно, в сумерках, кончил он наконец второй участок вдовьей земли. С оврага подымался уже сырой туман, и я боялся, чтобы Л. Н. не простудился. Он надел пальто сверх промокшей насквозь рубахи, и мы отправились домой.
Л. Н. был в самом счастливом расположении духа, в голосе его слышалась переполненность благостью душевной, без всякой сентиментальности. “Меня удивляет, — говорил он, — как это люди лишают себя самого блаженного состояния, самых счастливых часов жизни — часов полевого труда. Сознание несомненно принесенной пользы, сладкое утомление, превосходный аппетит и крепкий сон — вот награда полевому работнику”.
Голос его звучал необыкновенно глубоко и трогательно. Он говорил много интересного: о пустоте, измельчании человечества в городах, о их пустозвонной, фальшивой суете и крайнем нравственном и физическом бессилии и развращенности горожан.
А между тем сделалось совсем темно, дорога исчезла и только вызвездившее мириадами бездонное небо помогало нам не спотыкаться в колеях. Мы были в самом счастливом, блаженном настроении, хотя я уподоблялся мухе на рогах пахавшего вола.
Однако, по приходе домой, графиня немножко отрезвила нас и заставила присмиреть. В самом деле, вся многочисленная семья, с гостями и детьми, ждали нас до половины восьмого — мы пришли в 9. Переспевший обед, долгое голодание детей — все это вещи, неприятные для матерей и хозяек; но главное, графиня ни на минуту не могла забыть, что Л. Н. только что оправился от серьезной болезни, простуды желудка, происшедшей от такого же, как и сегодня, непомерного увлечения тяжелой работой в поле.
Доктор положительно запретил ему такие большие дозы физического труда. Что молодому Л. Н — чу сходило благополучно, теперь каждый раз грозило каким-нибудь серьезным недугом. Она была права.
Надо сказать несколько слов и о графине. Высокая, стройная, красивая, полная женщина, с черными, энергичными глазами, она вечно в хлопотах, всегда за делом. Большое сложное хозяйство целого имения почти все на ее руках. Вся издательская работа трудов мужа, корректуры типографии, денежные расчеты — все в ее исключительном ведении. Детей она обшивает сама и Льву Николаевичу сама шьет его незатейливое платье: сапоги себе он шьет сам. Всегда бодрая, веселая графиня нисколько не тяготится трудом, и я видел, как она, в свободные часы, стегала ватное платье какой-то, выжившей из ума, дворовой женщине. Казалось невероятным, как эта, не первой молодости графиня, повергшись всем своим красивым корпусом над разостланной в зале материей, в продолжение нескольких часов, не разгибая спины, работает так, как не работает ни одна женщина в бедной семье.
Графиня наделена живым, реальным умом и необыкновенно острым взглядом. Во время писания мною у них портрета с Л. Н., самые верные замечания были сказаны ею — быстро, на лету, без всякой претензии.
Иногда я не удерживался от удивления при меткости ее замечаний. Тогда она с грустью говорила, что прежде и Л. Н. слушался ее замечаний в его беллетристических трудах, но теперь, с тех пор как он перешел на философию, он уже избегает ее и не делится с ней своими идеями. “По-моему, это совсем не его дело”, — говорит она нетерпеливо.
Во всем, что касается семейных и хозяйственных дел, Л. Н. всегда советуется с ней и очень ценит и любит ее, как верного, преданного друга. Сам он устранился от всех хозяйственных дел и в семейных вопросах необыкновенно добр и до крайности терпелив. Дети его страстно любят.
3
Беседы Л. Н. производят всегда искреннее и глубокое впечатление; слушатель возбуждается до экстаза его горячим словом, силой убеждения и беспрекословно подчиняется ему. Часто на другой и на третий день после разговора с ним, когда собственный ум начинает работать независимо, видишь, что со многими взглядами его нельзя согласиться, что некоторые мысли его, являвшиеся тогда столь ясными и неотразимыми, теперь кажутся невероятными и даже трудно воспроизводимыми, что некоторые теории его вызывают противоположные даже заключения, но во время его могучей речи этого не приходило в голову.
В Москве я жил недалеко от квартиры Л. Н. и часто после работы, под вечер, отправлялся к нему, ко времени его прогулки.
Не замечая ни улиц, ни усталости, я проходил за ним большие пространства. Его интересная речь не умолкала все время, и иногда мы забирались так далеко, и так уставали наконец, что садились на империал трамвая, и там, отдыхая от ходьбы, он продолжал свою интересную беседу. Как часто я жалел, что не был стенографом: сколько глубоких мыслей, метких характеристик и вечных истин высказывал он над явлениями жизни, политики, литературы и искусств.
В моей мастерской, стоя иногда перед начатой мною картиной, он поражал меня совершенно неожиданными и необыкновенными замечаниями самой сути дела; освещал вдруг всю мою затею новым светом, прибавлял животрепещущие детали в главных местах, и картина чудесно оживлялась. Чувствовался огонь гениального художника. Такое же действие производил он и на товарища моего, художника Сурикова, который жил по соседству; встретившись с ним и сообщив друг другу замечания Толстого, мы чуть не лезли на стену от восторга — так он нас подымал!..
В Ясной Поляне однажды встретили мы босого мужичонка, что называется “заморуха”. Он шел к Льву Николаевичу за пособием, просить семян, посеяться.
“Хорошо, тебе дадут, — сказал ему кротко Л. Н. — Я попрошу: ты через час придешь к приказчику и получишь”.
Заморух поблагодарил апатичным кивком почти безбородой головы и побрел назад, подковыривая босыми пятками.
— Вот, — сказал Л. Н., — этот Трофим к зиме по миру пойдет.
— Как, неужели? — спросил я, — да разве ему нельзя помочь?
— Что вас это так удивляет? — сказал спокойно Л. Н. — В народном быту у нас это вовсе не так страшно. Зиму он будет питаться с семьей кусочками — будут сыты, будут и работать; а к будущей осени урожаем, бог даст, и поправится. У него было много несчастий: пала корова, угнали лошадь и главное была долго больна жена, а она у него сильная работница. Сам-то он плохой, забитый, а жена молодец, ею только он и жил.
— Но, мне кажется, Л. Н., нищенство развращает, деморализует людей, ведь он обленится, — возразил я.
— О, совсем нет, вы судите как горожанин: “От тюрьмы да от сумы не отцураешься” — говорит пословица. Сума это есть дно для каждого утопающего крестьянина; он опускается на это дно, становится ногами, упирается в него и опять выталкивается наверх. Не беспокойтесь, поправится, будет работать и пойдет понемногу. Это часто бывает. И ведь это особенное нравственное состояние человека простого. Он смиряется, входит в себя, раскаивается во многих ошибках; возбуждаются в это время все его умственные и душевные силы и служат хорошим лекарством слабой воли и нерадения. И, знаете ли, это особенная, внутренняя сладость смирения — почти лирическое состояние души, оно возвышает простого человека.
Да, бедность, нищета, это великие учителя жизни.
В самом деле, и мне рисовалась глубоко-нравственная повесть из крестьянской жизни. Дошедшая до нищенства семья смирением, трудом и прилежанием снова приходит к благосостоянию. Но после, в раздумьи, мне стало приходить в голову, уж не скуп ли Л. Н. и не туг ли он на помощь ближним.
Однажды, в сумерках, разыскивая графа, косившего в поле, я попросил деревенского мужичка провести меня в поле, где работает граф. По дороге мы разговорились, и я спросил у него, каковы гр. Толстые, помогают ли они крестьянам в нужде?
“Это уж что говорить, грех сказать что-нибудь — отцов родных не надо, — сказал он серьезно и строго. — Ни в чем нам отказу нет. А два года назад тут пожар сильный был, полдеревни выгорело; так граф всем новые избы построил и на обзаведение по 25 р. дал погоревшим. Известно, у кого дочиста все сгорело, по-нашему по крестьянству значит”.
И она добра, добра! Друг дружку стоят, надо правду сказать. Л. Н. нередко навещает в деревне больных, а также и здоровых. Однажды я сопровождал его. Больных мы обошли в обществе медика, студента Московского университета 5-го курса. Этот молодой человек был последователь Толстого, лето он провел на покосе, с крестьянами, работая все время за установленную плату рабочим наравне с косарями. Теперь он возвращался в университет к началу лекций. Пространство верст 300 он делает пешком, до Москвы. Сначала, рассказывал он, к нему косари относились недоверчиво, считали его то за писаря, то за рассчитанного приказчика, но, когда он своими советами помог несколько раз заболевшим, к нему стали относиться с большим уважением. Под конец его очень полюбили за тихий характер и считали за фельдшера. При нас он осмотрел и выслушал тщательно старуху, больную воспалением кишок, давал советы, прописывал лекарства.
Аптека у Толстых своя. Иногда дочери графа ухаживают за беспомощными больными; носят им легкую пищу и лекарство.
Посещение здоровых было гораздо приятней. Возвратившиеся только что с поля вечером, крестьяне были веселы; они шутили запросто с барином, графом, и незаметно переходили на нравственные вопросы жизни о душе, когда вспоминали о прочитанных книжках, которыми наделяет их граф. Эти пожилые уже люди все были грамотны, все они выучились здесь же в Ясной Поляне, у этого же гр. Л. Н. и им очень хорошо уже были известны многие нравственные вопросы жизни, занимавшие так его.
В сумерках мы зашли к одному страстному грамотею-мужику. Он сидел на пасеке и, высоко подымая книгу к глазам и свету, не мог оторваться от строк. Увидав Л. Н., он быстро радостно заговорил книжным языком, под сильным впечатлением только что читанного. “Читаю биографию художника Иванова-с”. И он негодовал на несправедливость судьбы к истинным талантам в чиновном Питере, погрязшем в интригах, бесчувственном... Л. Н. прервал его.
— Ну, что, барышня уехала? — спросил он.
— Уехала, уехала!.. Так мать родную не провожают, как мы ее провожали.
— Ну, а что, каков она человек? — спросил Л. Н.
— Она, т. е. человек очень, очень хороший человек она! Посудите сами, ваше сиятельство; мы в поле — она у нас и детей уходит, ведь, извините, маленькие; всего тут... и накормит малых, — и самовар поставит и все готово, как нам вернуться с поля. Такая барышня, так просто удивленье одно!.. И книжки хорошие давала читать. А это у меня старая: “Русский Вестник” 62-го года; да что делать, нечего читать. Нет ли у вас еще чего новенького, ваше сиятельство?
Л. Н. обещал прислать ему. Эта барышня была одна из многочисленных теперь последовательниц учения Толстого. Они, летом, во время страды, приезжают в деревни и помогают крестьянам по дому, у кого некому присмотреть за хозяйством и за малыми ребятами, моют им белье и стряпают обед.
Последователей у Л. Н. делается все больше и больше. Люди самых разнообразных профессий и возрастов приезжают к нему за советом. Часто зайдет и странник по св. местам, то наконец придет к нему целая группа странников и странниц затем только, чтобы посмотреть на него. Он дарит им на память книжечки для народа, изд. “Посредника”, большей частью сочинения его и его последователей.
Однажды утром прервал наш сеанс какой-то приехавший господин с женой, — просил видеть наедине Л. Н.
Через час Л. Н. вернулся очень возбужденный и даже несколько сконфуженный.
“Можете представить, молодой человек перед окончанием курса женился... женился на проститутке, по страстной любви и теперь желает обратить ее на путь истины, — говорил вполголоса Л. Н. — Безнадежнейшее существо! В ней глубоко укоренился нигилизм жизни, настоящий страшный нигилизм. Верите ли вы в бога? — спрашиваю ее. — Нет, — отвечает почти нагло. — Сколько ни старался, кажется, ничем не удалось ее растрогать — погибшее существо... Жаль его, кажется хороший и даровитый человек”.
Л. Н. очень любил обходиться без помощи прислуги. И, когда семья его на зиму переезжает в Москву, он остается, иногда еще целый месяц, в Ясной Поляне совсем один. Сам себе ставит самовар и делает все горячее. Он особенно любит это свое одинокое время. Говорит, что из поставленного самим самовара чай несравненно вкуснее. Зайдет к нему какой-нибудь прохожий, странник, зазовет он его, накормит, напоит и так-то хорошо бывает; тепло, любовно. Больше простору, больше свободы душевным интересам.
1 | 2
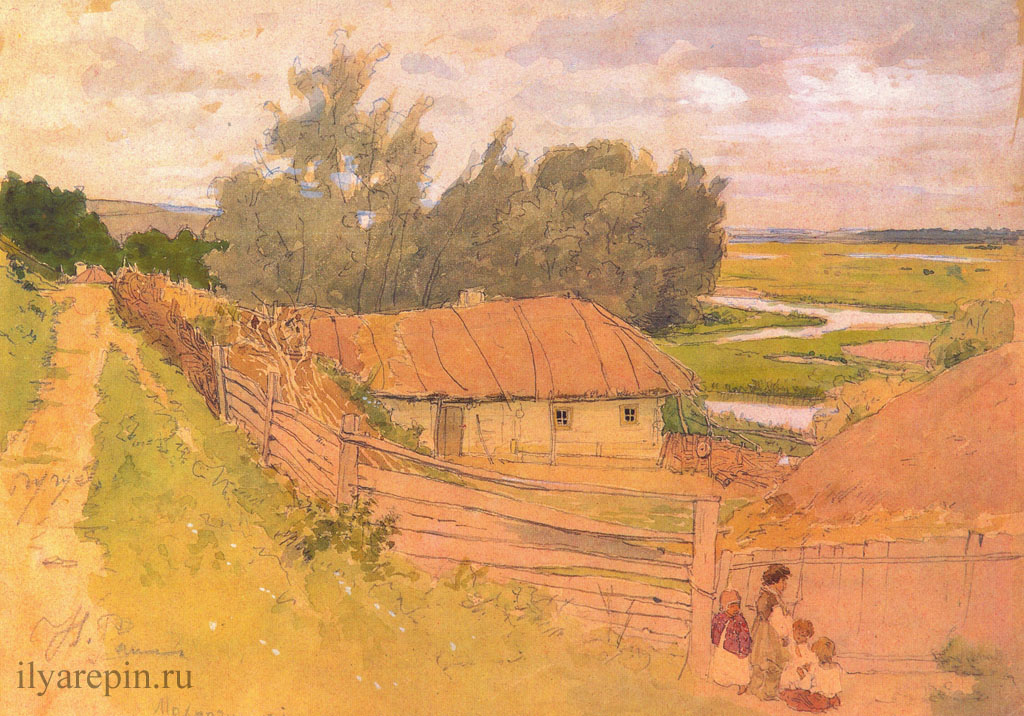 18 |  Стрекоза (Репин И.Е.) |  Гипсовая модель лопуха. Первый рисунок Репина в школе на Бирже. 1863. ГРМ. |